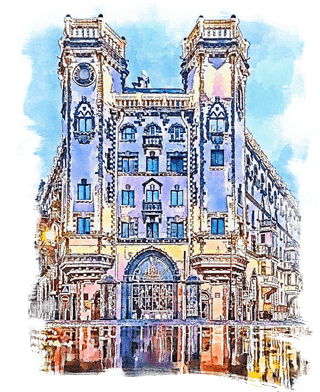Представляют лабораторию ООГО «Российский фонд культуры» и Учреждение культуры Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова.
И вот некоторые цитаты из обсуждения экспертного жюри.
А. ПЛАТУНОВ: Чехов известный водевилист. Даже напоминать не буду о том, что когда он писал «Вишнёвый сад», он говорил о том, что пишет «большой водевиль». Конечно, история его сильно идеализировала. А ведь он был абсолютно нормальный человек с потрясающим чувством юмора. Я же смотрю на эту пьесу [Чайка], и думаю, что Треплев мне по-настоящему никогда не нравился. Какой-то парень сидит на шее у мамы… Сегодня я увидел этот эскиз и подумал, что ведь на самом деле всё было так. Воспоминания Треплева – загадочные, в дымке. А на самом деле это откровенный, пошлый водевиль. Потому что если посмотреть на эту пьесу – на все эти положения, взаимоотношения Аркадиной, на бесталанную Нину Заречную – тогда я понимаю: перед нами история. Таким образом, полноценный спектакль получится только тогда, когда будет решена проблема жанра. И в этом эскизе есть основания для водевиля. Нужно больше определённости, избежать этого «качания». При таком раскладе, самая странная фигура здесь это, конечно, Треплев. А финал – с мелодрамой – это называется: «А лучше бы он тогда застрелился!». Ребята, лучше оставаться живым в водевиле, чем застрелиться в 18 лет в драме.
Когда речь идёт о работе с текстом А.П. Чехова, здесь нужна виртуозная работа драматурга. Каждое слово должно быть отобрано. Вы импровизировали. Лучшее место было в спектакле с Сориным. Точное понимание жанра должно дать точные ходы. Я считаю, что можно сделать очень интересный спектакль, который так и будет называться: «Чехов. Чайка. Водевиль».
С. ШОЛОХОВ: Идея двух Треплевых [старший и младший] мне чрезвычайно понравилась. Игра же с пистолетом на видео показалась немного лишней. Мне кажется, здесь должна быть какая-то другая кульминация. Очень хороша характерная роль Нелли Поповой – она яркая, убедительная, всё сразу понятно, очень точные детали. Тригорин мне показался слишком серьёзным, мне кажется, в нём должны быть какие-то смешные детали (для водевиля), или же он должен быть совсем мрачным. Все играли очень качественно. Полина Севастьянихина мне тоже очень понравилась, очень удачная роль.
А. ЛИБАБОВ: Чехов для меня всегда загадка. И браться за него – это всегда рискованно. По форме, мне понравилась история «спустя 30 лет». Хороший приём. Второе, я думаю, здесь нужна драматическая составляющая и перформативная часть – как это было вначале. Играть где-то по-настоящему, по Чехову. Но это довольно сложно – соединить эти две формы. Мне всегда казалось загадкой, почему начинается перечисление животных: «Люди, львы, орлы и куропатки». О чём Чехов? О какой-то гармонии этого мира, что ли, природы. И я думал, что на экране будут летать орлы, как в мире животных. Я думал, когда же «ружьё» выстрелит? Экран появился, а изображения нет.
Е. ФЕОФАНОВА-ВЕСТЕРГОЛЬМ: Я думаю, здесь не было идеи делать водевиль. Только снять шелуху с текста, с ситуаций. В это попадал Г. Алимпиев. Гениально существовал в образе, в нём было всё – глубина, драма, слёзы, водевиль, острота. Абсолютное попадание в жанр. Мне было обидно за Н. Попову, что её героиню сделали шаржированной. Это было предсказуемо – увидеть такую Аркадину. А все были достаточно живые и оригинальные. Нужен баланс. Когда защищали этот эскиз, там было много всего про финал, как это должно быть. И если это развивать, то только на баланс драмы-комедии и снятия шелухи, потому что как только водевиль – это никому не интересно.
Г. ФИЛАТОВА: Самой пришлось столкнуться с Чеховым один раз, зубы пообломали половину, но что-то осталось. И Евгений Викторович Жаринов как-то вдруг раскрыл нам глаза и сказал, что Чехов был предвестником театра абсурда. Сейчас здесь мне как раз хотелось бы усилить так называемых «новых форм». В образе Полины мне бы хотелось видеть ещё больше, как она «отрывается» от происходящего. Она выделялась среди всех, но хотелось ещё дожать. И молодой Костя Треплев – это же вечное противопоставление. Мне понравилось, как существовали все актёры. И здесь как будто бы нарисовалось два пути: молодого Кости Треплева, который словно видел нечто совсем другое, что увидеть было никому не подвластно. Или же он изображал это…? Сидя в своей деревне, уже от безысходности пытающемуся противопоставить себя всему окружающему. И с художественно-постановочной стороны также хотелось бы более оригинальных, тех самых «новых форм», чтобы понять – эти герои действительно такие или же они так погрузились в свой воображаемый мир, где они, примитивные «творцы», пытаются в глуши своей чего-то добиться, а им не хватает ни внутреннего мира, ни таланта.
М. РАЗУМОВСКИЙ: Надо ли знать пьесу «Чайка», чтобы играть такой эскиз, такой перформанс, такой водевиль, или нет? Нужно ли задумываться о том, что это Чехов, или нет? Как вы думаете? Я не играл в «Чайке», никого. На моей совести и на моей памяти – это «Три сестры», «Дядя Ваня», «Свадьба». Вот у Булгакова есть пьеса о Пушкине, называется «Последние дни». Но Пушкина там нет, это отношение гения к гению, бережное. И что я знаю, что я вынес: Чехов – это особняком стоящий автор, это мыслитель, это парадоксальный гений. Проживший очень мученическую жизнь, потому что гении не приспособлены к этому миру. Так вот я знаю и вынес это: самое главное в Чехове – не навредить. Если ты не можешь, это я о себе, лучше отойти в сторону и посмотреть на своего персонажа со стороны.
В. ФУРМАН: Актёру? Конечно. Есть два подхода в разборе. Г.А. Товстоногов разбирал так, что есть гении и бездарности. Это одна история, а другая, когда Треплева считают талантливым человеком, которого не понимают. И это заблуждение. Когда режиссёр принесла эту историю, и всем нравится, видишь, что Треплев выходит и получает награду. Это хороший ход. Хорошее предложение А. Платунова – как решать возникающие воспоминания, через водевиль. Мне кажется, здесь основная проблема в том, чтобы не было литмонтажа. Я совершенно согласен, что хочется определённости по жанру. Какой способ существования актёров? Потом, почему мы вспоминали А. Жолдака. Ассоциативные образные ходы, перформативное начало – это интересное погружение. Так вот, здесь этот абсурдный переход – я вспоминаю Жолдака «Три сестры». Переходы решены странно, и хочется разгадать этот ребус. Поэтому и от Треплева здесь хочется видеть чего-то более глубокого, что с ним происходит психофизически, что у него в голове. Главная задача этого эскиза сейчас – найти способ существования актёров. Здесь могут быть и пластические, и какие-то провокационные решения.
И вот некоторые цитаты из обсуждения экспертного жюри.
А. ПЛАТУНОВ: Чехов известный водевилист. Даже напоминать не буду о том, что когда он писал «Вишнёвый сад», он говорил о том, что пишет «большой водевиль». Конечно, история его сильно идеализировала. А ведь он был абсолютно нормальный человек с потрясающим чувством юмора. Я же смотрю на эту пьесу [Чайка], и думаю, что Треплев мне по-настоящему никогда не нравился. Какой-то парень сидит на шее у мамы… Сегодня я увидел этот эскиз и подумал, что ведь на самом деле всё было так. Воспоминания Треплева – загадочные, в дымке. А на самом деле это откровенный, пошлый водевиль. Потому что если посмотреть на эту пьесу – на все эти положения, взаимоотношения Аркадиной, на бесталанную Нину Заречную – тогда я понимаю: перед нами история. Таким образом, полноценный спектакль получится только тогда, когда будет решена проблема жанра. И в этом эскизе есть основания для водевиля. Нужно больше определённости, избежать этого «качания». При таком раскладе, самая странная фигура здесь это, конечно, Треплев. А финал – с мелодрамой – это называется: «А лучше бы он тогда застрелился!». Ребята, лучше оставаться живым в водевиле, чем застрелиться в 18 лет в драме.
Когда речь идёт о работе с текстом А.П. Чехова, здесь нужна виртуозная работа драматурга. Каждое слово должно быть отобрано. Вы импровизировали. Лучшее место было в спектакле с Сориным. Точное понимание жанра должно дать точные ходы. Я считаю, что можно сделать очень интересный спектакль, который так и будет называться: «Чехов. Чайка. Водевиль».
С. ШОЛОХОВ: Идея двух Треплевых [старший и младший] мне чрезвычайно понравилась. Игра же с пистолетом на видео показалась немного лишней. Мне кажется, здесь должна быть какая-то другая кульминация. Очень хороша характерная роль Нелли Поповой – она яркая, убедительная, всё сразу понятно, очень точные детали. Тригорин мне показался слишком серьёзным, мне кажется, в нём должны быть какие-то смешные детали (для водевиля), или же он должен быть совсем мрачным. Все играли очень качественно. Полина Севастьянихина мне тоже очень понравилась, очень удачная роль.
А. ЛИБАБОВ: Чехов для меня всегда загадка. И браться за него – это всегда рискованно. По форме, мне понравилась история «спустя 30 лет». Хороший приём. Второе, я думаю, здесь нужна драматическая составляющая и перформативная часть – как это было вначале. Играть где-то по-настоящему, по Чехову. Но это довольно сложно – соединить эти две формы. Мне всегда казалось загадкой, почему начинается перечисление животных: «Люди, львы, орлы и куропатки». О чём Чехов? О какой-то гармонии этого мира, что ли, природы. И я думал, что на экране будут летать орлы, как в мире животных. Я думал, когда же «ружьё» выстрелит? Экран появился, а изображения нет.
Е. ФЕОФАНОВА-ВЕСТЕРГОЛЬМ: Я думаю, здесь не было идеи делать водевиль. Только снять шелуху с текста, с ситуаций. В это попадал Г. Алимпиев. Гениально существовал в образе, в нём было всё – глубина, драма, слёзы, водевиль, острота. Абсолютное попадание в жанр. Мне было обидно за Н. Попову, что её героиню сделали шаржированной. Это было предсказуемо – увидеть такую Аркадину. А все были достаточно живые и оригинальные. Нужен баланс. Когда защищали этот эскиз, там было много всего про финал, как это должно быть. И если это развивать, то только на баланс драмы-комедии и снятия шелухи, потому что как только водевиль – это никому не интересно.
Г. ФИЛАТОВА: Самой пришлось столкнуться с Чеховым один раз, зубы пообломали половину, но что-то осталось. И Евгений Викторович Жаринов как-то вдруг раскрыл нам глаза и сказал, что Чехов был предвестником театра абсурда. Сейчас здесь мне как раз хотелось бы усилить так называемых «новых форм». В образе Полины мне бы хотелось видеть ещё больше, как она «отрывается» от происходящего. Она выделялась среди всех, но хотелось ещё дожать. И молодой Костя Треплев – это же вечное противопоставление. Мне понравилось, как существовали все актёры. И здесь как будто бы нарисовалось два пути: молодого Кости Треплева, который словно видел нечто совсем другое, что увидеть было никому не подвластно. Или же он изображал это…? Сидя в своей деревне, уже от безысходности пытающемуся противопоставить себя всему окружающему. И с художественно-постановочной стороны также хотелось бы более оригинальных, тех самых «новых форм», чтобы понять – эти герои действительно такие или же они так погрузились в свой воображаемый мир, где они, примитивные «творцы», пытаются в глуши своей чего-то добиться, а им не хватает ни внутреннего мира, ни таланта.
М. РАЗУМОВСКИЙ: Надо ли знать пьесу «Чайка», чтобы играть такой эскиз, такой перформанс, такой водевиль, или нет? Нужно ли задумываться о том, что это Чехов, или нет? Как вы думаете? Я не играл в «Чайке», никого. На моей совести и на моей памяти – это «Три сестры», «Дядя Ваня», «Свадьба». Вот у Булгакова есть пьеса о Пушкине, называется «Последние дни». Но Пушкина там нет, это отношение гения к гению, бережное. И что я знаю, что я вынес: Чехов – это особняком стоящий автор, это мыслитель, это парадоксальный гений. Проживший очень мученическую жизнь, потому что гении не приспособлены к этому миру. Так вот я знаю и вынес это: самое главное в Чехове – не навредить. Если ты не можешь, это я о себе, лучше отойти в сторону и посмотреть на своего персонажа со стороны.
В. ФУРМАН: Актёру? Конечно. Есть два подхода в разборе. Г.А. Товстоногов разбирал так, что есть гении и бездарности. Это одна история, а другая, когда Треплева считают талантливым человеком, которого не понимают. И это заблуждение. Когда режиссёр принесла эту историю, и всем нравится, видишь, что Треплев выходит и получает награду. Это хороший ход. Хорошее предложение А. Платунова – как решать возникающие воспоминания, через водевиль. Мне кажется, здесь основная проблема в том, чтобы не было литмонтажа. Я совершенно согласен, что хочется определённости по жанру. Какой способ существования актёров? Потом, почему мы вспоминали А. Жолдака. Ассоциативные образные ходы, перформативное начало – это интересное погружение. Так вот, здесь этот абсурдный переход – я вспоминаю Жолдака «Три сестры». Переходы решены странно, и хочется разгадать этот ребус. Поэтому и от Треплева здесь хочется видеть чего-то более глубокого, что с ним происходит психофизически, что у него в голове. Главная задача этого эскиза сейчас – найти способ существования актёров. Здесь могут быть и пластические, и какие-то провокационные решения.